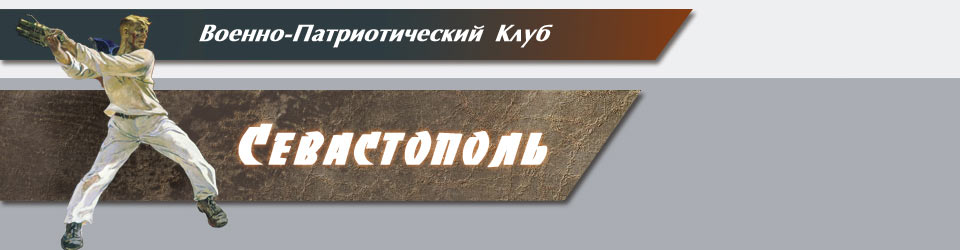Военно-патриотический клуб “Севастополь”
Патриотическое воспитание и просвещение русских
К.Симонов. «Мост под водой»

В битве за Ржев наибольшее внимание неоправданно, а часто – с привкусом дешевого «разоблачения» – уделяется наиболее тяжелому, начальному этапу. В результате читатель гораздо меньше осведомлен об одной из ярких побед Советской Армии – ликвидации ржевско-вяземской группировки противника в ходе Ржевско-вяземской операции, которая проводилась 75 лет назад, со 2 по 31 марта 1943 года, и в ходе которой силы Калининского и Западного фронтов отодвинули линию фронта на 130–160 км от Москвы. Еще менее известно о предшествовавших операции боях РККА за ржевско-вяземский выступ (плацдарм) зимой 1942–1943 годов. Один из эпизодов этих героических, упорных боев освещается во фронтовом очерке К.М. Симонова «Мост под водой».
Очерк, к сожалению, не вошедший в большинство собраний сочинений писателя, был создан по материалам, которые Константин Симонов, состоявший тогда специальным корреспондентом «Красной Звезды», собрал в ноябре 1942 года непосредственно на месте событий. 3 декабря статья поступила в редакцию и на следующий день сдана в готовившийся номер. «Мне принесли вчера уже сверстанный очерк, – вспоминал впоследствии главный редактор газеты Д.И. Ортенберг. – Он занял три колонки. Когда я увидел его название, удивился: что это за странный мост, претендующий на такую большую площадь в газете? А прочитав, понял, что мост этого заслуживает».
Мы предлагаем читателю убедиться в справедливости этой оценки.
Мост под водой
Поздней осенью в тронутом заморозками лесу, на поляне, саперы строили странное сооружение. Если бы здесь была река, то сооружение это можно было бы считать мостом. Однако реки здесь не было, а просто на лесной поляне были поставлены семь ряжей, точно таких, какие ставятся в воду, когда поверх них собираются сделать настил для моста. Семь ряжей, поставленных на метровом расстоянии друг от друга. Это было само по себе странно, но еще более странным постороннему глазу могло показаться то, что к ним подъехали танкисты и долго критическим оком разглядывали их.
Инженер дивизии Сосновкин и танковый командир Иевлев внимательно осмотрели ряжи, походили кругом них, после чего Иевлев приказал первому из собравшихся на поляне танков перейти по ряжам на ту сторону поляны. Танк взгромоздился на первый ряж, потом медленно переполз с первого ка второй и через пустые метровые промежутки, одновременно опираясь на два ряжа, как по ровному мосту, благополучно пройдя по всем ряжам, спокойно сполз на землю на той стороне поляны. Вслед за первым танком ту же операцию проделали второй, третий и так, один за другим, все танки.
Все было странно в этой процедуре – и ряжи, поставленные прямо в лесу, и танки, в самый разгар войны занимающиеся переползанием через эти ряжи, и в особенности то, что по обеим сторонам ряжей были воткнуты в землю, как на порядочной шоссейной дороге, вешки, обозначающие обочины, – как будто танкисты без них не видели, где кончается ряж и где начинается воздух.
Однако и Сосновкин, и Иевлев, и саперы, и танкисты, словом, все участники этого занятия относились к нему чрезвычайно серьезно и были весьма довольны результатами занятий.
Проехав по сухопутному мосту, танкисты, оживленно переговариваясь, осматривали его и, снова забравшись в свои танки, один за другим скрывались в лесной чаще. Иевлев, похлопывая Сосновкина по плечу, удовлетворенно говорил, что это здорово, и что – «если у вас все будет в порядке, то и у нас все будет в порядке». Стояли последние сухие дни октября месяца, на фронте было затишье, и на поляну только ветер порывами доносил звуки редких орудийных раскатов.
В этот день на лесной поляне решалась одна из сложных проблем предстоящего прорыва. На этом с августа твердо установившемся участке Центрального фронта между нами и немцами лежала река. Средняя русская речка, не слишком широкая и не слишком узкая, но все же имевшая вполне достаточные ширину и глубину для того, чтобы танки не могли перейти реку. А между тем для прорыва это было совершенно необходимо.
Когда генерал Мухин получил приказание готовиться к прорыву, он вызвал к себе инженера Сосновкина и сказал: «Вы должны обеспечить переправу танков, но… – на этом слове генерал сделал многозначительную паузу, – во-первых, мост через реку должен быть введен до начала наступления, а не в ходе его, а во-вторых, желательно, чтобы немцы не знали, где готовится переправа и что она вообще готовится».
Сосновкин попросил сутки для этой казавшейся неразрешимой проблемы. Он был опытным инженером, но с решением таких каверзных задач в своей инженерской практике ему сталкиваться еще не приходилось. В течение этих суток в его голове промелькнули десятки самых необычайных вариантов, и все они не годились именно потому, что были необычайными. Наконец, под утро, свертывая непослушными пальцами чуть ли не сотую самокрутку, он натолкнулся на последний и, как он сразу понял, единственный вариант – простой, слишком простой, простой до дерзости.
Явившись к генералу, Сосновкин заявил ему, что он нашел решение, что он построит самый обычный мост, только с двумя, всего с двумя особенностями. Во-первых, его мост будет не сплошной, а с промежутками и, во-вторых, его мост убудет проходить не над водой, а под водой. Он построит мост с метровыми промежутками между ряжами, мост, по которому не сможет пройти пехота, но смогут переползти танки. Кроме того, существование этого моста будет известно только нам, но отнюдь не немцам. Он будет невидим, верхние венцы его будут проходить на 50 см. ниже уровня воды.
Проект был принят, и в лесу сразу в двух местах закипела работа. Рубили ряжи одновременно для двух мостов – для опытного, на котором в лесу будут тренироваться танкисты, и для настоящего, который будет погружен в реку.
Пока саперы, поплевывая на ладони, тесали в лесу бревна и подгоняли их друг к другу, Сосновкин сидел на передовой в батальоне, занимавшем оборону по берегу реки против того места, где надо было строить мост. Сосновкин изучал обстановку. Наш берег реки был низким и отлогим, как почти все левые берега русских рек и речек. Правый, немецкий, берег был высоким и обрывистым, и днем с него можно было наблюдать все происходившее на нашей стороне.
Ночью немцы, верные своей методической привычке, осыпали с обрыва полосами трассирующих пуль весь наш берег. Пули жужжали над окопами, шурша врезались в берег, с шипеньем шлепались в воду. Немцам был хорошо виден наш берег, и они этим пользовались. Строить мост днем – об этом не приходилось и говорить, но и строить его ночью тоже было затруднительно. Слишком уж крут и высок их берег, слишком был хорошо виден с него наш.
Как подвезти сюда ряжи, как перенести их на место так, чтобы это не было видно с того берега? Сосновкин терпеливо обдумывал это, и вдруг у него мелькнула счастливая мысль. Да, с их берега виден наш, ну что ж, мы будем переносить по бревнышку ряжи не по вашему берегу, а по их.
Тот же самый крутой обрыв, который давал возможность немцам видеть далеко вперед, не давал им возможности видеть у себя под носом, видеть свой берег, свою собственную узкую прибрежную полосу.
В одном месте река делала излучину и с нашей стороны к ней подходил овраг. Сюда можно будет незаметно подтаскивать бревна, а потом, переправив их через реку, тащить вплавь, вниз по течению до того места, где будет мост. Тащить под самым носом у немцев по их берегу. Да, конечно, только так.
Танкисты испытали в лесу пробный мест. Сосновкин сделал его точно таким, какой будет стоять в реке. Такой же ширины и длины, с такими же вешками, какие он потом собственноручно за четверть часа до наступления воткнет по обеим сторонам моста в воду. На пробном мосту была испытана даже и та маленькая хитрость, при помощи которой этот мост становился мостом только в одну сторону – только с востока на запад, но отнюдь не обратно. С нашей стороны к первому ряжу должна была подходить вкось каменная насыпь, наклон, по которому танк свободно влезал на первый ряж, но последний ряж, ближний к их берегу, обрывался круто, без всякой насыпи, с него танк мог соскользнуть вниз на тот берег, на запад, но оттуда, с запада, обратно он забраться на мост не мог. Это было сделано на тот случай, если бы немцы все-таки обнаружили раньше времени существование моста и попробовали им воспользоваться сами. Что же до наших танкистов, то они думали только о том, как перебраться туда, а есть или нет обратные дороги – это их меньше всего интересовало.
В течение двух суток все ряжи были срублены и подогнаны по бревнышкам. Обычно их скрепляют железными скобами. Но здесь об этом не приходилось и думать. Саперы ночью на реке не могли позволить себе ни одного стука, ни одного удара, молотком, и Сосновкин приказал сделать все крепления только на болтах и гайках. Ряжи должны были быть целиком свинчены, тихо и аккуратно. Добрые русские плотники всегда питали склонность к ювелирной работе. Как раз она им и предстояла здесь. Стояли темные ночи первых дней ноября. Все небо было завешано черными тучами – ни проблеска, ни звезды.
Для того, чтобы не опростоволоситься, приходилось на ходу проверять и обдумывать каждую мелочь. Обычные отметки бревен карандашом, мелом или углем не годились. При таких отметках для того, чтобы разглядеть, которое бревно куда, надо было зажигать фонари или чиркать спички, что в 150 метрах от немцев, безусловно, исключалось. Пришлось заранее сделать на всех бревнах целую систему зарубок, по которым их можно было безошибочно определять наощупь.
На третью ночь Сосновкин вместе с командиром саперной роты Каюровым и его помощником Быковым приступил к строительству моста. Была поздняя осенняя холодная ночь. На поверхности воды уже корочкой застывал лед, и по грудь в воде перетаскивать бревна на тот берег, а потом вплавь, толкая их, идти по течению в той же самой ледяной воде, – это было невыносимо холодно даже для ко многому привычных русских людей.
Ледяная вода обжигала все тело, хотелось как можно скорее довести бревна до места, как можно скорее вернуться и хоть как-нибудь, хоть немножко погреться у костра. Но спешить нельзя было – малейшая торопливость, малейший всплеск могли погубить все. Бревна вели в воде подвое на руках. Вслед за бревнами также по воде вдоль немецкого берега тащили на носилках, а то и в подолах гимнастерок камень для засыпки подножия ряжей. Камень несли особенно бережно, чтобы ни один камешек, не дай бог, не бултыхнулся в воду.
К первому утру в воде уже стояли два ряжа. Они были невидимы ни нам, ни немцам. В следующую ночь было поставлено еще два ряжа, потом еще три. Всю ночь над головами свистели пули. Как и весь берег, немцы посыпали это место своим обычным огнем «на всякий случай».
Несколько сапер было убито и ранено. И тех и других так же осторожно, как делали все остальное, бесшумно вынесли на руках назад.
Ночь от ночи вода становилась все студенее. Теперь на ее поверхности плавали уже не отдельные льдинки, а сплошняком стояла тонкая ледяная корка. Об нее в кровь резали руки, а ноги замерзали так, что потом в блиндажах утром даже водка не могла отогреть дрожавших в ледяном ознобе людей.
И все-таки к третьему рассвету под водой стояли все семь ряжей, прочных, надежно свинченных, засыпанных камнем и невидимых, главное, абсолютно невидимых. В эту последнюю ночь ударил крепкий мороз, и реку совсем затянуло ледяной коркой. Вовремя сделали, – подумал Сосновкин, – еще день, другой – и было бы поздно.
Теперь потянулись дни ожидания. Точного дня и часа, когда начнется наступление, никто не знал. И Сосновкин, по мере того, как река застывала, с некоторой тревогой следил за снижением уровня воды. Он, конечно, рассчитал и специально сделал верх места значительно ниже уровня воды, но все-таки вдруг этот уровень опустится небывало низко – природа изобилует капризами. Впрочем и на это несчастье у него был приготовлен свой ответ. Он был готов к тому, что, если вода опустится еще, он ночью снимет у ряжей их верхние венцы.
Наконец, настал долгожданный срок. Ночью Сосновкин с саперами прокрался на реку и, проткнув во льду отверстия, всунул в них по обеим сторонам моста заранее приготовленные вешки. Теперь это была заправская магистраль – танки могли идти по ней прямо, не сбиваясь, так, как и должно ходить в наступление.
И когда на рассвете под грохот сотен орудий танки на глазах удивленных немцев двинулись прямо к реке, прямо на лед, который по всем законам физики никак не мог их выдержать, впереди грозных машин, ведя их за собой, шел маленький человек в серой армейской шинели – строитель моста, инженер Сосновкин.
Источник
Симонов мост под водой
Ортенберг Давид Иосифович
О книге и ее авторе
Память человека, какой бы она ни была цепкой и стойкой, когда надо восстановить подряд, день за днем, события давно ушедшего времени, стремится опереться на какие-то непреложные факты — и не только для самопроверки, но и для того, чтобы четче проступило стершееся, ожило забытое. Военачальник обращается к донесениям и приказам военных лет, к старым штабным картам. Журналист — к сохранившимся корреспондентским блокнотам того времени: в них записаны части, где он бывал, люди, с которыми встречался. Д. Ортенберг с этой целью использует подшивку военных номеров «Красной звезды», ответственным редактором которой он был в годы войны.
Удивительное свойство профессиональной памяти: перечитывая старые номера газеты, автор вспоминает, как менялось положение на фронте, свои поездки в действующую армию, встречи и беседы с военачальниками, цели, которые редакция преследовала, публикуя те или иные статьи, корреспонденции, стихи, вспоминает, как добывали и готовили эти материалы, как работали фронтовые корреспонденты, и многое, многое другое. В его воспоминаниях всплывают конкретные обстоятельства, бесчисленные подробности редакционной и фронтовой жизни — часто неизвестные или прочно забытые, порой немаловажные, проливающие свет не только на «стратегию» и «тактику» газетных выступлений, но и на ход военных действий.
Кажется, никогда прежде и после этого газеты не занимали такого огромного места в жизни миллионов людей, как в годы войны. «Красная звезда» и ныне весьма уважаемая газета, но авторитет ее и популярность во время войны ни с чем не сравнимы. «Самой боевой и великолепной газетой наших суровых дней» назвал ее Николай Тихонов.
Сила «Красной звезды» была прежде всего в основательном знании того, что происходило на фронтах. Для этого использовались разные каналы. Свежая и точная информация постоянно поступала от собкоров и спецкоров. Добывать подобного рода сведения об обстановке на переднем крае — особенно в первый период войны, во время отступления, — было нелегко и опасно. Константин Симонов вспоминал потом: «. увидеть панику было тогда не трудно, увидеть беженцев на дорогах, отступающих солдат, неразбериху, бесконечные бомбежки тоже не представляло особенного труда, достаточно было для этого выехать в прифронтовую полосу, — а вот увидеть дивизию, полк, батальон или роту, которая не отступает, которая стоит и дерется, для этого надо было залезть не на мнимый, а на действительный передний край. И это было не так-то просто, и не всем это удавалось, и многие на этом сложили головы».
Тесные связи газета поддерживала с Генштабом, со Ставкой Верховного Главнокомандования, получая там по мере надобности очень ценные консультации. И наконец, не последнюю роль играли личные контакты редактора газеты и ее сотрудников с крупными военачальниками, во многих случаях установившиеся еще на Халхин-Голе и во время советско-финляндской войны. Это отмечает в своих воспоминаниях Г. К. Жуков: «Редактором газеты «Героическая красноармейская» (газета нашей группы войск на Халхин-Голе. — Л. Л.) был Д. О. Ортенберг, способный и оперативный работник. Он умел сплотить коллектив сотрудников газеты и привлечь к активному участию в ней многих бойцов, командиров, партийно-политических работников. В годы Великой Отечественной войны Д. О. Ортенберг был редактором «Красной звезды», и мне также неоднократно приходилось встречаться с ним в Действующей армии. » Благодаря такого рода связям авторский актив газеты «Красная звезда» включал в себя и прославленных полководцев — надо ли говорить, чего стоил их опыт и как важно, что читатель получал его из первых рук?
В «Красной звезде» хорошо понимали, что правда — самый страстный, самый красноречивый, самый действенный агитатор. Благодаря ей даже горе и беды становились силой, противостоящей врагу, питали стойкость и мужество, веру в конечную нашу победу. Это стремление говорить читателям правду, как бы ни была горька, многое определяло в редакционной работе. Вытравлялись приблизительность, «липа», «козьмакрючковщина», казенный оптимизм. Высоко ценились материалы, свидетельствующие о том, что автор находился на передовой, в боевых порядках, видел своими глазами то, что описывает. Поощрялись корреспонденты, летавшие на бомбежку, ходившие на подводной лодке, участвовавшие в партизанских рейдах.
«Красная звезда» была самой «литературной» из всех газет военного времени. В ней было больше писателей, чем в других газетах, и гораздо больше публиковалось писательских материалов самого высокого класса — и не только очерков и публицистических статей, регулярно печатались стихи, рассказы, даже повести и пьесы. Своей славой газета в немалой степени обязана писателям. Сейчас могут сказать: «Что же удивительного в том, что «Красная звезда» была самой «литературной» газетой — посмотрите, что за писатели там работали, сколько звезд первой величины!» Но это аберрация зрения, мы невольно накладываем наши нынешние представления на прошлое — многие из этих ныне известных писателей тогда вовсе не были знамениты и имена их широкому читателю мало что говорили. Скажем, Симонов был еще молодым поэтом, в редакции после Халхин-Гола знали, что он храбрый парень и безотказный работник — вот и все. А громкое имя, всенародное признание пришли к нему уже в войну, когда он стал корреспондентом «Красной звезды». И Василий Гроссман попал в газету до того, как написал «Народ бессмертен», сталинградские очерки, «Треблинский ад», а ведь именно эти вещи, написанные для газеты, принесли ему огромную популярность. И с Андреем Платоновым дело обстояло совсем не просто — не знаю, взяли бы его в другой редакции с такой охотой, как в «Красной звезде», ведь по тем временам его литературная репутация желала много лучшего, да и военные его вещи не у всех вызывали одобрение. А в «Красной звезде» к Платонову относились с большим уважением, высоко ценили то, что он писал, и не требовали от него оперативных материалов, которые ему не давались. Даже Илья Эренбург — самый старший по возрасту и самый маститый из всех писателей, пришедших в «Красную звезду», не был еще тем Эренбургом, которого зачисляли почетным красноармейцем, статьи которого в партизанских отрядах приказом не разрешали пускать на курево. Да и он сам понимал, что война была его звездным часом. Размышляя о своей литературной судьбе, он писал в послевоенном стихотворении:
Умру — вы вспомните газеты шорох,
Ужасный год, который всем нам дорог.
Слов нет, писатели немало дали «Красной звезде», но и ей они тоже обязаны. Для многих из них эти трудные, опасные, бессонные годы стали порой высочайшего творческого взлета.
Я говорил все время о главном герое книги — о «Красной звезде», а теперь следует сказать и об ее авторе. Это надо сделать хотя бы потому, что о себе он пишет очень скупо. И дело не только в том, что человек он скромный и сдержанный, ему претит какое-либо бахвальство и самовосхваление, а в том, что он целиком поглощен порученной ему работой, любимой газетой, ее задачами, ее боевым потенциалом, ее активным участием в народной войне. Рассказывает ли он о себе или о других, о принимавшихся им решениях, порой очень непростых и нелегких, о тяжком грузе ответственности, о печальных днях и радостных минутах — на первом плане всегда газета, ее коллектив, ее фронтовая судьба (думаю, что по отношению к этой газете можно так сказать).
Давид Иосифович Ортенберг — генерал-майор, журналист, писатель, автор ряда документальных книг, назову наиболее значительные: «Время не властно», «Это останется навсегда», «Июнь — декабрь сорок первого», «В те памятные годы». Шестнадцатилетним пареньком Д. Ортенберг участвовал в гражданской войне, в 1920 году вступил в комсомол, в 1922-м — в партию, после гражданской войны был на комсомольской работе, а с 1925 года стал газетчиком, редактировал городские и окружные газеты, был корреспондентом «Правды» на Украине, с 1938 года — заместитель ответственного редактора, а затем ответственный редактор «Красной звезды», последние полтора года войны провел на фронте начальником политотдела 38-й армии.
Источник