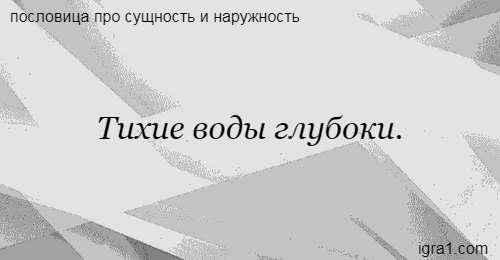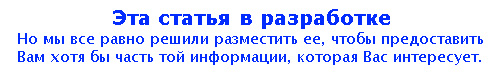- Тихие воды глубоки
- Смысл пословицы
- Толкование пословицы
- Похожие пословицы и выражения
- Скачать пословицу
- Задать вопрос
- Приглашение к раздумью: премудрость тишины
- . Люди премудрые Тихо живут.
- А.С.Пушкин
- . нам по душе непокой, Мы сурового времени дети.
- Е.Долматовский
- Aqua profunda est quieta (Глубокая вода спокойна)
Тихие воды глубоки
Пословица про сущность и наружность:
Тихие воды глубоки.






Смысл пословицы
Определённые качества человека могут быть иллюзорными и мнимыми, в действительности он может обладать и иными чертами характера и особенностями.
Толкование пословицы
Аналогично о ситуации, явлении, промежутке времени — не всё, что заметно на первый взгляд, является абсолютно неоспоримым.
— Этот продавец был очень тихим, но тихие воды глубоки, и в нерабочее время он был самым эрудированным и эмоциональным человеком. (автор неизвестен)
Похожие пословицы и выражения
В тихой воде омуты глубоки.
В тихом болоте черти водятся.
В тихом омуте (болоте) черти водятся.
Вода лелеет (манит, тешит?), да в рот не лезет (не дается).
Молчан-собака да тихий омут (опасны).
На больших воду возят.
Не в том сила, что кобыла сива, а в том, чтобы воду возила.
Не все то русалка, что в воду ныряет.
Спори, боже, мучицы, а водицы и сама приспорю.
Тиха вода, да омуты глубоки.
Тихая вода берега подмывает (и плотины рвет).
Пословицы отмеченные звёздочкой 
Смотрите все пословицы про сущность и наружность
Скачать пословицу
Вы можете скачать изображение с текстом пословицы, поделиться им с друзьями в социальных сетях либо использовать в презентациях. Для скачивания, нажмите на картинке.
Задать вопрос
Свои вопросы, предложения и замечания присылайте через предложенную ниже форму.
Благодаря Вашим отзывам и оценкам, мы постараемся сделать проект «Игра слов» ещё лучше.
Источник
Приглашение к раздумью:
премудрость тишины
. Люди премудрые
Тихо живут.
А.С.Пушкин
. нам по душе непокой,
Мы сурового времени дети.
Е.Долматовский
В разделе стихотворений Пушкина, «точно не датированных» и соотносимых с периодом 1827–1836 гг., надолго задерживаешься на четверостишии:
Воды глубокие
Плавно текут.
Люди премудрые
Тихо живут.
Поражает выбор темы (как жить мудро), направление нравственного идеала (достоинство тишины), готовность к уроку (в себе, экспрессивному, мятущемуся), точная логика сопоставления (глубокие – плавно, премудрые – тихо) и, наконец, настроение смиренного согласия (так есть – так надо). Поэтическому раздумью приданы лаконизм и прозрачность: минимум слов – все для мысли, ни одного для «красоты», превосходно найденный рисунок строфы – вместо двух длинных рифмованных строчек четыре короткие с одной «потерявшейся» рифмой. Но всего замечательнее в этой миниатюре внутренняя интонация внезапного прозрения – озаренности открывшейся истиной. Если бы и нам к ней приобщиться!
Нет, речь пойдет не о ритме жизни и даже не о модели поведения, но о гораздо более важном – содержании этического идеала. Точнее – об уровне пропагандируемых нравственных установок.
Когда это началось – переосмысление веками устоявшихся понятий, жонглирование плюсами-минусами? Покой, тишина, согласие, смирение на Святой Руси издавна были свидетельством благоденствия и духовного здоровья нации; напротив того, болезнь страны, общества определялась понятием «смуты», и многочисленные синонимы этого слова – заглянем-ка в словарь – все связаны с несогласием и непокоем: заговор, возмущение, бунт, мятеж, борьба и, можем добавить, террор. «Мир есть целость, здравие души, – писал святой праведная Иоанн Кронштадтский, – потеря мира – потеря здравия душевного».
И вот в еще памятные нам времена все встало с ног на голову: тишина и согласие заклеймены позором как проявление равнодушия и общественной пассивности, а выражением гражданского самосознания и патриотического чувства почему-то признана сама готовность к всевозможным выступлениям и движениям. В эру М. Горького (и его стараниями) ситуация оказалась предельно заострена. Были заявлены и четко противопоставлены друг другу две общественные позиции, два статуса: гражданин – мещанин. Гражданин – этакий «перпетуум»-борец, мещанин – «перпетуум»-соглашатель. В наступление пошла и «красивая» символика: горение – тление, крылатый – бескрылый. Но сегодня-то что с этим делать? Неужели продолжать играть в «крестики-нолики» по прежним правилам?
«Песни» М. Горького и сегодня традиционно присутствуют в школьной программе. И «крестики» в них с такой безапелляционностью заданы автором, что переставить их, поддержанных всем образным строем произведений, – значит сыграть с учащимися в одни лишь «нолики». Однако и оставить их на старых местах ох как неразумно.
Обратимся к «Песне о Соколе». Не имея ни задачи, ни желания подробно препарировать давно отпрепарированные и заспиртованные на длительное использование образы, позволим себе лишь одно замечание. А ведь горьковская аллегория-то сильно хромает, споткнувшись о логику исходной схемы. Виноват ли человек, что Господь не сотворил его крылатым, и надо ли презирать его за это? По-видимому, нет. Тогда точно так же: виноват ли Уж, что не летает? А вот оказывается, что виноват и заслуживает презрения: «Рожденный ползать – летать не может!» Сколько сарказма, а между тем хороша новость!
Каждой твари изначально предопределен свой образ жизни, и, объективно говоря, «сырое ущелье» ничем не хуже «пустыни знойной» – неба. Как Соколу «душно» в ущелье, так и Ужу нет «опоры» в небе – и этого никому не отменить. Давно пора бы, кажется, понять, что Ужа делает смешным и пошлым вовсе не среда обитания и не отсутствие крыльев, а исключительно гордыня и проистекающая из нее чудовищная самонадеянность. «Я сам все знаю. Я знаю правду», – из этого сознания прорастает вся суть образа и олицетворяемого им типа людей. Но и автор, как это ни парадоксально, проявляет себя в том же духе. О чем это Пушкин – о премудрости тишины? Как бы не так! Я сам все знаю: «Безумство храбрых – вот мудрость жизни!»
Остается лишь повторять и повторять: книги читают не люди, а время! Иначе как понять, где были наши глаза и уши столько десятилетий. Не очевидно ли, что гимн безумству можно петь только в состоянии помрачения разума и только нездоровый рассудок может приравнять совершенство. к патологии. Точно так же, вполне в духе своего времени, и Долматовский полемически заострил приверженность целого поколения извращенному жизненному идеалу.
Хорошо в тишине над рекой
Услыхать соловья на рассвете, –
вырывается у поэта невольное признание. Однако тут же срабатывает идеологический стоп-кран:
Только нам по душе непокой,
Мы сурового времени дети.
В строках этих предельно обнажен тот излом в сознании, при котором неизбежное начинает осмысливаться как желанное. Не время, диктуя свою волю, лишает покоя, а непокой в угоду времени сознательно и добровольно принимается в качестве жизненной позиции.
«Отсутствие мира в душе, возмущение, коим отличаются все страстные состояния души нашей, – есть духовная смерть и знак действия в сердцах наших врага нашего спасения» – эти слова Иоанна Кронштадтского как нельзя лучше объясняют еще один горьковский образ-символ. Вот описание мятежно кричащего над морем Буревестника: «В этом крике – жажда бури («отсутствие мира в душе»)! Силу гнева («возмущение»), пламя страсти («страстное состояние души») и уверенность в победе слышат тучи в этом крике». А далее все та же логика рассуждения: в качестве знака высокого гражданского состояния Буревестника признается его способность к «наслажденью битвой жизни», а «ужас пред бурей» всяких там чаек, гагар и пингвинов объявляется свидетельством обывательской пассивности и косности. (Заметим, кстати, что и смертельно раненный Сокол стремился в небо вовсе не с целью «пожить еще немного в своей стихии», как предлагал ему наивный в своей отсталости Уж, а для того, чтоб снова испытать «счастье битвы» и прикончить врага.) В конце «Песни о Буревестнике» автор, сам того же желая, все же выдает истинное обличье своего героя: «Вот он носится, как демон («враг нашего спасения»!), – гордый, черный демон бури. «
Так что же со всем этим делать сегодня?!
К сожалению, и классика, казалось бы, далекая от битв и бурь XX века, не всегда удовлетворяет высоте вневременного нравственного идеала. И снова учитель оказывается заложником у личных пристрастий и заблуждений автора.
«Что за огненная душа, что за могучий дух, что за исполинская натура у этого Мцыри», – воскликнул когда-то Белинский, очарованный героем лермонтовской поэмы. «Бессознательным восторгом» остроумно окрестил эту эйфорию критика уже в наши дни М. Дунаев. Ибо и с этим героем все обстоит вовсе не просто.
Итак, «Мцыри». Опять-таки не анализируя детально заглавный образ, поговорим лишь о его резонансе – о том нравственном уроке, который преподан нам автором. При этом важно иметь в виду необычное обвинение, предъявленное Лермонтову Владимиром Соловьевым: «Облекая в красоту формы ложные мысли и чувства, он делал и делает еще их привлекательными для неопытных. » И где же взять сил неопытным для внутреннего сопротивления обольщению ложью, если даже очень опытный – Виссарион Белинский – не смог противиться гипнозу эстетического совершенства формы. «Можно сказать без преувеличения, – описывал он этот поэтический шедевр, – что поэт брал цвета у радуги, лучи у солнца, блеск у молнии, грохот у громов, гул у ветров, что вся природа сама несла и подавала ему материалы. » Вот тот случай, когда художественность, словно сладкогласная сирена, чаруя слух, затмевает разум. За музыкой стиха теряется смысл слова. Ну а если все же вслушаться в слова?
Любой нравственный урок сводится в конечном счете к ответу на детский вопрос: что такое хорошо и что такое плохо? И вот ответ Лермонтова.
Снова и снова идеалом человеческого бытия объявляется непокой, мятеж, борьба. По сути дела, Мцыри обольщает наши души уловкой: принимая владеющую им «пламенную страсть» за тоску по родине, мы не можем не сострадать несчастному, а потому заведомо почитаем благими любые движения его души, любые поступки. Ведь сострадание – это ворота, распахнутые навстречу оправданию и любви. Однако к побегу из монастыря этого без пяти минут монаха побуждает не только и не столько желание обрести отчизну. Его слова о готовности променять две жизни в келье на одну, «но только полную тревог», его мечты о «чудном мире тревог и битв» свидетельствуют о том, что для него покой несноснее плена. А в черновиках поэмы этот мотив борьбы в качестве главного смысла жизни звучит еще отчетливее:
Когда б я был хоть вольный зверь,
Я не томился б, как теперь,
Души болезнию немой;
Я б отыскал врага и бой.
Какая яркая художественная деталь – этот «отысканный» бой, бой во что бы то ни стало!
Что еще особенно порочно-привлекательно в лермонтовском герое? Ну конечно же его гордыня, проявлениями которой так откровенно любуется автор. Шести лет от роду Мцыри «гордо» умирал, отвергая пищу, не издавая стона. Теперь, снова на смертном одре, он «гордо» выслушивает «увещеванья и мольбы» сердобольного чернеца, снисходя все-таки до «исповеди». Признаться, очень своеобразной исповеди – полной самолюбования и самопрощения, стенаний по себе, безвинному и безгрешному, презрения к людям и Богу. И если в каноническом тексте Мцыри лишь (!) добровольно отказывается от «рая и вечности», то в вариантах поэмы он впрямую «ропщет» против Творца: «. Почему Ты на земле мне одному дал вместо родины тюрьму? Ты не хотел меня спасти. »
Сегодня, когда мы силимся идти путем приобщения к духовным ценностям своих предков, когда стараниями лучших пастырей наших в национальном сознании хотя медленно и трудно, но все же утверждается слово Бога Живого, – можно ли продолжать служить идолам? Какое же страшное духовное штрейкбрехерство совершают те из нас, кто вольно или невольно провозглашает верность идеалам смутного времени, не осознав того, что на смену «безумству храбрых» должна прийти наконец «премудрость тишины».
Источник
Aqua profunda est quieta
(Глубокая вода спокойна)
По материалам сайта Bestiaria Latina:
//audiolatinproverbs.blogspot.ru/2006/12/aqua-profunda-est-quieta.html
После “Грести против течения” в «сегодняшних пословицах» (раздел сайта — прим. пер.). Мне подумалось, что наблюдение о глубоких водах было бы хорошим тому продолжением.
Английское выражение «still waters run deep» («спокойные воды глубоко текут») все еще очень распространено, и это латинское высказывание просто немного другой способ выразить ту же мысль: глубокая вода — это «aqua profunda», а спокойная — «quieta».
Как часто бывает, Генрих Кохер (Heinrich Kocher) предлагает множество связанных латинских выражений, сравните:
«Altissima quaeque flumina minimo labuntur sono» — «Глубокая вода течет с меньшим звуком».
«Flumina tranquillissima saepe sunt altissima» — «Самый спокойный поток часто бывает самым глубоким».
«Quamvis sint lenta, sint credula nulla fluenta» — «Не важно, как медленно течет поток, ему нельзя доверять».
«Qui fuerit lenis, tamen haud bene creditur amni» — «Река может медленно течь, но это не дает поводов ей верить».
Эти варианты высказываний более явные в своем предупреждении: «Опасности, которые таятся в глубокой воде!» В нашей современной жизни, нам не приходится стоять на берегу потока и решать, безопасно или нет пересекать его. Мы просто пользуемся мостом, построенным для нас и пересекаем поток без особых размышлений.
Это было не так в древнем мире, где вы могли запросто оказаться лицом к лицу с ручьем ли потоком или даже рекой и должны были решить, где именно для вас безопасно переходить ее вброд, на лошади, со своей телегой и т. п. Эта пословица выполняла важную функцию: предупреждала вас, что даже если поток на поверхности выглядит спокойным, он все же может быть глубоким и, таким образом, опасным при пересечении.
В сущности, буквальное применение этой пословицы очень полезно, предупреждая вас быть осторожным в решении пересекать реку или нет. Метафорически она может иметь множество различных применений, далеко за пределами мира пересечения рек. Предупреждение в том, что подобно обманчивым водам реки, многие вещи в жизни могут выглядеть спокойными и привлекательными, но есть глубины ситуации, которые вы не можете увидеть, и которые вы можете окунуться на свой страх и риск.
Фраза «тихая вода глубоко течет» все еще широко узнаваема в английском, но я удивляюсь, как мало людей задумываются над тем, что она значит. Во времена Рима буквальное значение пословицы закреплялось каждый раз, когда вы пересекали реку. В современности буквальное значение пословицы потеряло свою актуальность для нашей жизни. Я подозреваю, что это ослабляет силу метафорического применения высказывания как результат. Если мы не оценили настоящую и предстоящую опасность быть смытым в водах реки, можем ли мы по-настоящему понять, что это значит «тихая вода глубоко течет».
15.12.2006.
Лаура Гиббс (Laura Gibbs)
Источник